УШУ – ЧИТА. Традиции житейская история (Продолжение) ЧАСТЬ 5. Вокруг да около...
|
Не многие делайтесь учителями, зная, |
что мы подвергнемся большему осуждению. |
|
Апостол Иаков (Иак. 3:1) |
|
“Науки” от Александра Николавича мне хватало. Были еще наставления от нескольких "знакомцев" семьи Ли, стариков - китайцев, живших в городе. Иногда "из области" (тогда Забайкальский край был Читинской областью) приезжали в Читу их родственники. Кое-кто из них даже выходил со мной на "тренировочную сопку". Порой "кулака" вообще было как говориться, выше крыши. Ведь не вольный же был казак – “реестровый”... Служба, командировки время занимали помногу и всерьез. Кстати, именно это, никак не выдуманное, обстоятельство позволило “сломить” установку главного наставника насчет ведения или нет хоть каких-то записей “по кулакам”. |
|
Первый намек был встречен в штыки: |
|
– Чё, бумажка будет учиться или ты?.. |
|
Со временем он сдался: |
|
– Ладно. Может, кому ещё на пользу пойдёт. Я-то, дурак, с поучениями отцовыми не шибко манерничал... Подохну (в выражениях дядя Саша никогда не стеснялся – А.В.) – пустое место от них останется... Хорошо хоть ты появился... |
|
“Заметки о кулаках” уже тогда, в конце 70-х – самом начале 80-х постепенно стали пополняться не только рекомендациями Ли-младшего и его окружения – круга семьи Ли. В Чите, можно сказать, параллельным курсом, выстраивал свою “китайскую линию” будущий крупный международный бизнесмен Андрей Чугуевский. В соседнем Улан-Удэ только-только начинали “легализовываться” Юрий Монхоев и Борис Антонов, ставшие впоследствии очень и очень большими фигурами в мире Традиционного ушу. Взаимная информация друг о друге, естественно, ходила по кругу. |
|
Неплохую “подпитку” дало знакомство с... одним из первых учителей Гусейна Магомаева художником из Махачкалы Ахмедом Ахмедовым (фото 1). |
|
Вместе с семьей и группой учеников он специально приехал в Забайкалье, поселился неподалеку от Читы “в особом месте силы”. Совершенствовал свое учение. В том числе за счет информации о местной восточной диаспоре, неизбалованной западной “популярностью”, потому искренней. |
|
Впрочем, особый информационный прорыв в ту пору произошел у меня по линии, казалось бы, несколько неожиданной. А именно – по тибетской медицине и Северному Буддизму. Разумеется, была дружба с Николаем Абаевым, Леонидом Янгутовым, дававшая определенные знания в этой области. Но! была однажды и почти вдруг – служебная командировка в Монголию... |
|
По линии, так сказать, личного интереса задолго до выезда знал, что в одном из улан-баторских посольств два человека активно занимаются кунфу. Собирался законтачить. Однако случился контакт совсем иного рода – с офицерами Главного политуправления Монгольской народной армии. Работа в этом... очень даже официальном учреждении была одной из “скучно-обязательных” целей командировки. Успокаивал себя надеждой, что по-быстрому разберусь с обязаловкой в скучных кабинетах. Однако в одном из них встретился с друзьями еще по Львову. Бывшими монгольскими курсантами (учились в ЛВВПУ при мне и болгары, и чехи, и кубинцы с сомалийцами), знакомство с которыми завязалось в свое время на борцовском ковре. О цене спортивной дружбы нет смысла распространяться особо. Прием (разумеется, не борцовский бросок или подножка) последовал буквально ошеломляющий! Несмотря на еще маленькие, как и меня, звезды, служебные полномочия у “баторов” были несопоставимо большими. Все официальности, на которые отводился не один день, были улажены в считанные часы. А потом пошли нескончаемо-приятные встречи и посиделки. На одних, особо “теплых”, рассказал о своих “восточных поисках”. И тут же “возник” визит в Гандан (фото 2) – главный монгольский буддийский монастырь. “Убежденных коммунистов” из Главпура знали там прекрасно. Уважали. На волне этого отношения приняли и меня. |
|
В священных стенах много о чем было поведано. Много чего – рекомендовано. Как говорится, к исполнению. Одним из важнейших “исполнений” стала поездка в Агинск и знакомство там с будущим 18-м настоятелем – шэрээтуем здешнего дацана “Даши Лхундублинг” Золто-ламой Золто Дармабазаровичем Жигмитовым (фото 3). Без преувеличения – великий этот и невероятно доступный в общении человек своим благословением и последующими советами... на космические расстояния развинул мне горизонты Востока. Истинное величие “Восточного Космоса” – в конкретике. Этой конкретикой стали впоследствии: жоры (медицинские тибетские рецептурники) легендарного пульсодиагноста ламы-лекаря Галдана Ленхобоева, рассказы очевидцев о практиках не менее известного специалиста по тибетской медицине Гаваа Лувсана, в конце 70-х переехавшего из Улан-Удэ в Москву. А еще – личные встречи с родственниками народной целительницы, дочери дореволюционного еще эмчи-ламы (ламы-лекаря) Цыбжит Цыреновны. В приграничный с Китаем колхоз “Красный великан”, где она жила и принимала пациентов, ехали люди буквально со всей страны. Позже знаменитая Джуна привлекла тетушку Цыбжит к лечению членов Политбюро ЦК. Их здоровье забайкалка правила, понятно, в Москве. Правила честно. Не на родной для себя земле. Потому – быстро “надорвала” здоровье собственное. |
|
Много дополнительных глубинных знаний по тибетской медицине дало знакомство с потомком рода врачей Бадмаевых (в том числе царского лекаря Бадмаева Петра Александровича)... подполковником медицинской службы Баиром Цырендоржиевичем Дамдиновым. “Читать пульс” – одно. А нюансы утреннего и дневного чтения – другое. Да и массаж настоящий как увязывать с тем же пульсом – это не “ныгын, хоир, гурвы” (“раз, два, три” по-бурятски). |
|
Вокруг да около. Словосочетание это обычно употребляется в ключе несколько негативном. Однако, как показала жизнь, бывает от “пританцовок” таких и свой позитив. Случайно и не очень возникавшие знакомства с “восточными” людьми либо обстоятельствами в конце 70-х - начале 80-х позволяли глубже осмысливать, а значит понимать Традицию семьи Ли. Как говорили в ней: “Имеешь свое гунфу – от других тоже научишься”. |
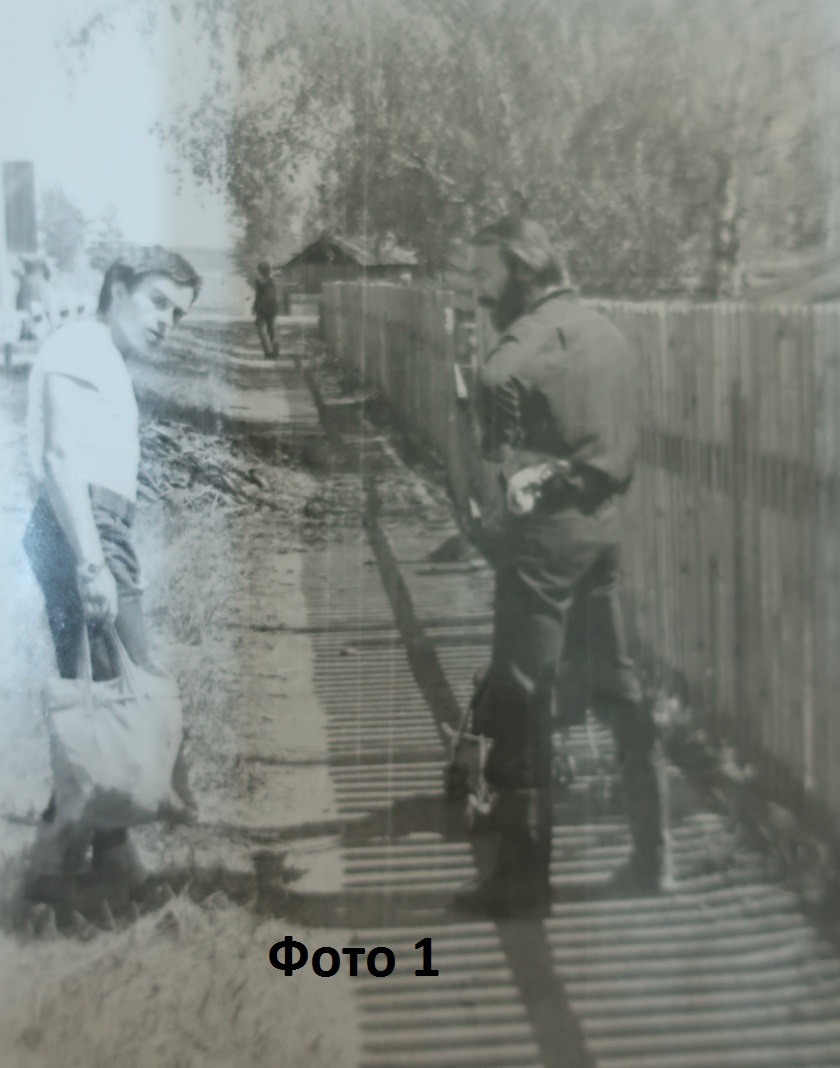 |
 |
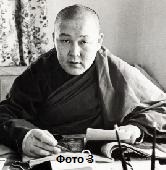 |